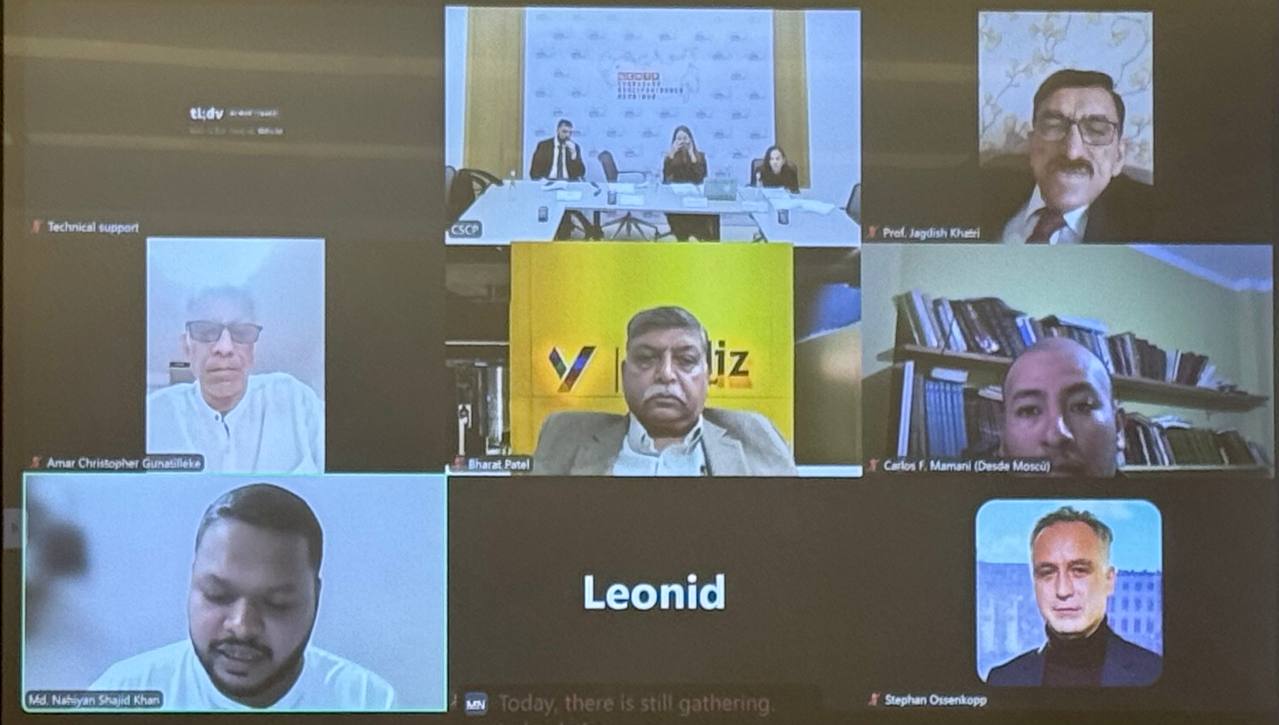Генеральный секретарь Индийско-китайского экономического и культурного совета, руководитель индийского Центра геоэкономики Глобального Юга Мохаммед Сакиб ответил на вопросы редакции информационно-аналитического издания «Союзники. ОДКБ»
Mohammed Saqib, Secretary General of the India China Economic and Cultural Council, Convenor of the Center of Geoeconomics for the Global South, answered questions from the editorial board of the information and analytical publication «Allies. CSTO»
«Союзники. ОДКБ»: На Экономическом форуме Глобального Юга-2025 в Абу-Даби Вы сказали: «Мир стоит на пороге нового экономического порядка… у стран Глобального Юга достаточно голоса, чтобы коллективно принимать собственные решения». Как вы согласуете это видение с сохраняющимися структурными проблемами, такими как доминирование западных финансовых институтов? Какие конкретные механизмы – например, дедолларизация через БРИКС или инвестиционные коридоры Юг-Юг – могут ускорить становление подлинной многополярности?
At the 2025 Global South Economic Forum in Abu Dhabi, you declared: «The world is on the cusp of a new economic order… the Global South has enough voice to collectively make our own decisions». How do you reconcile this vision with persistent structural challenges like the dominance of Western financial institutions? What concrete mechanisms – such as de-dollarization via BRICS or South-South investment corridors – can accelerate true multipolarity?
Мохаммед Сакиб: Видение Глобальным Югом нового экономического порядка набирает силу. Однако доминирование западных финансовых институтов сохраняется. Инициативы под эгидой БРИКС, такие как усилия по так называемой «дедолларизации» (BRICS Pay, торговля в национальных валютах), — это шаг к финансовой автономии. Кроме того, инвестиционные коридоры Юг-Юг, такие как Новый банк развития (НБР) и Инициатива «Пояс и путь» (BRI), создают инфраструктуру и укрепляют экономические связи.Для ускорения процессов многополярности требуется значительная политическая воля. Страны Глобального Юга должны тесно координировать действия, углублять политические реформы. Им необходимо работать над цифровыми валютами для подрыва гегемонии доллара, создать альтернативу системе SWIFT, формировать региональные рынки и стратегически объединять ресурсы, чтобы устранить структурные барьеры и создать более справедливую глобальную экономику.
The Global South’s vision for a new economic order is gaining momentum. However, the dominance of Western financial institutions remains. BRICS-led initiatives, so-called “de-dollarization efforts” like BRICS Pay and local currency trade, are a step towards financial autonomy. Furthermore, South-South investment corridors, such as the New Development Bank and BRI, are steps to build infrastructure and economic ties.
To accelerate multipolarity, a great deal of political will is required. The Global South must work in close coordination and deepen policy reforms. They must work on digital currencies to challenge the dollar’s hegemony, create a rival to SWIFT, build regional markets, and strategically pool their resources to dismantle structural barriers and create a more equitable global economy.
«Союзники. ОДКБ»: Индия активно участвует в механизмах безопасности ШОС, но не имеет институциональных связей с ОДКБ, несмотря на общие приоритеты, такие как борьба с терроризмом и наркотрафиком. Учитывая доктрину Индии о «стратегической независимости» и общие с членами ОДКБ региональные угрозы, какие практические рамки могут обеспечить прямое сотрудничество Индии и ОДКБ?
India participates actively in the SCO’s security mechanisms but has no institutional linkage to the CSTO, despite overlapping priorities like counter-terrorism and combating drug trafficking. Given India’s doctrine of «strategic autonomy» and its shared regional threats with CSTO members, what practical frameworks could enable direct India-CSTO cooperation?
Мохаммед Сакиб: Индия высоко ценит стратегическую независимость и гибкость. Однако она сталкивается с серьезными вызовами терроризма и наркотрафика. Это также создает возможность и необходимость для прочного сотрудничества с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).Я считаю, что Индии следует предпринять эффективные шаги, такие как заключение соглашений об обмене разведданными с государствами-членами ОДКБ, проведение совместных антитеррористических учений и получение статуса наблюдателя для Индии в ОДКБ. Эти меры помогут нам лучше взаимодействовать и укрепят внеблоковую позицию Индии.
India strongly values strategic independence and flexibility. However, India faces serious challenges from terrorism and drug trafficking. These also provide an opportunity and need for strong cooperation with the Collective Security Treaty Organization (CSTO).
I believe India should take effective steps, such as establishing intelligence-sharing agreements with CSTO member states, conducting joint counter-terrorism exercises, and seeking observer status for India in the CSTO. These actions will help us work better together and strengthen India’s non-aligned position.
«Союзники. ОДКБ»: Прогнозы ООН и Института мировых ресурсов (WRI) указывают, что к 2030 году 47% мирового населения столкнется с нехваткой воды, причем 100% стран Ближнего Востока и Африки будут испытывать «чрезвычайно высокий дефицит воды». Для Глобального Юга – где 1,7 миллиарда человек уже живут в условиях острого дефицита воды – это угрожает продовольственной безопасности, миграционным кризисам (до 700 миллионов климатических мигрантов к 2050 году) и конфликтам, подобным тем, что происходят в бассейнах Нила или Инда. Как странам Глобального Юга перейти от точечных решений к стратегической водной безопасности? Какие модели управления (например, сингапурская модель «Четырех кранов») или технологии (такие как децентрализованные системы рециклинга воды Hydraloop) можно масштабировать с учетом ограниченных финансов и инфраструктуры?
UN and World Resources Institute projections indicate that by 2030, 47% of the global population will face water scarcity, with 100% of Middle Eastern and African countries experiencing ‘extremely high water stress’. For the Global South – where 1.7 billion people already live in acute water scarcity – this threatens food security, migration crises (up to 700 million climate migrants by 2050), and conflicts like those in the Nile or Indus basins. How can Global South nations shift from patchwork solutions to strategic water security? Which governance models (e.g., Singapore’s ‘Four Taps’) or technologies (such as decentralized Hydraloop water-recycling systems) can be scaled given limited finances and infrastructure?
Мохаммед Сакиб: Это важная и сложная проблема. Во всем мире используются различные технологии и модели управления водными ресурсами. Каждой стране необходимо выбрать для себя устойчивую модель и сотрудничать с другими государствами. Например, Комплексное управление водными ресурсами (КУВР) в бассейне реки Сенегал способствует справедливому трансграничному сотрудничеству.
Управление водными ресурсами, государственное администрирование и коррупция являются серьезными проблемами. Модели управления, такие как сингапурская модель «Четыре национальных крана» (как вы упомянули), включающая сбор воды с местных водосборов, импорт воды, переработку в NEWater и опреснение, дают ценные уроки. Доступные варианты, такие как сбор дождевой воды и децентрализованные системы Hydraloop, способны перерабатывать до 85% бытовой воды. Технологии, например, двойственные ионные (zwitterionic) мембраны для очистки сточных вод и солнечные водораспределительные сети, хорошо работают в условиях ограниченных ресурсов.Финансирование — еще одна серьезная проблема для этих стран. Необходимо искать инновационные методы финансирования, такие как климатические облигации и государственно-частное партнерство, как в проектах по очистке сточных вод в Чили. Общественные инициативы, такие как мониторинг воды силами граждан в Сьерра-Леоне, и региональные усилия, такие как Инициатива по водным ресурсам Южной Азии, помогают повысить устойчивость. Сосредоточившись на КУВР, доступных технологиях и равноправном доступе, страны Глобального Юга смогут снизить риски для продовольственной безопасности, миграции и конфликтов, создавая устойчивые водные системы.
This is an important and challenging issue. Many different technologies and water management models are used around the world. Each country needs to choose a sustainable model for itself and work with other countries. For example, Integrated Water Resources Management (IWRM) in the Senegal River Basin encourages fair cooperation across borders.
Water management, governance and corruption are big issues. Governance models, such as Singapore’s Four National Taps, as you mentioned, which encompass local catchments, imported water, recycled NEWater, and desalination, provide valuable lessons. Affordable options, such as rainwater harvesting and decentralized Hydra loop systems, can recycle up to 85% of household water. Technologies such as zwitterionic membranes for wastewater treatment and solar-powered water networks can work well in areas with limited resources.
Finance is another major issue with these countries. There is a need to find innovative funding methods, such as climate bonds and private partnerships, as seen in Chile’s wastewater projects. Community-led projects, such as citizen water monitoring in Sierra Leone, and regional efforts like the South Asia Water Initiative, help build resilience. By focusing on IWRM, low-cost technologies and fair access, countries in the Global South can reduce food insecurity, migration and conflict potential while creating sustainable water systems.
«Союзники. ОДКБ»: Глобальный Юг включает демократии, монархии и однопартийные государства с различными геополитическими ориентациями. Вы призывали к коллективному принятию решений для противодействия доминированию Запада. Что препятствует более глубокой координации – идеологические разногласия, конкурирующие интересы или инфраструктурные разрывы?
The Global South spans democracies, monarchies, and single-party states with divergent geopolitical alignments. You’ve called for collective decision-making to counter Western dominance. What prevents deeper coordination – is it ideological differences, competing interests, or infrastructure gaps?
Мохаммед Сакиб: Множество факторов затрудняют для стран Глобального Юга коллективное принятие решений или достижение консенсуса. У них разнообразные политические системы (от демократий, таких как Индия, до монархий, таких как Саудовская Аравия, и однопартийных государств, таких как Китай), конкурирующие интересы, разный уровень развития и инфраструктурные разрывы, что осложняет достижение согласия.Например, геополитические отношения также играют значительную роль. Ориентация Индии на стратегическую независимость сталкивается с китайской инициативой «Пояс и путь». Африканские страны продолжают балансировать в отношениях с США, Китаем и Россией. Историческое соперничество, такое как водные споры между Индией и Пакистаном, а также различные экономические приоритеты – например, добыча ресурсов в Нигерии против производства во Вьетнаме – создают разногласия в рамках таких инициатив, как БРИКС, где Индия и Китай соперничают за влияние. Инфраструктурные проблемы еще больше ограничивают скоординированные усилия: например, в странах Африки к югу от Сахары доступ к электричеству есть лишь у 35% населения. Бюджет Африканского союза составляет $200 миллионов, тогда как бюджет ЕС — $200 миллиардов.Для решения этих проблем Глобальный Юг должен согласовать экономические цели и создать внутрирегиональную экономическую структуру, работая над снижением зависимости от доллара США через инициативу BRICS Pay. Новому банку развития (НБР) следует увеличить инвестиции по линии Юг-Юг для улучшения инфраструктуры. Сосредоточившись на общих вызовах, таких как изменение климата, торговый дисбаланс и доступ к технологиям, страны Глобального Юга смогут сотрудничать более эффективно. Такое взаимодействие способно создать более сильный, многополярный мир, уменьшающий доминирование Запада.
Multiple factors make it hard for countries in the Global South to take collective decisions or reach a consensus. They have diverse political systems, ranging from democracies like India to monarchies like Saudi Arabia and single-party states like China, along with competing interests, levels of development and infrastructure challenges, which complicate agreement.
For instance, geopolitical relationships also play a significant role. India’s focus on strategic independence clashes with China’s Belt and Road Initiative. African countries continue to balance their relationships with the U.S., China, and Russia. Historical rivalries, such as the water disputes between India and Pakistan, as well as different economic priorities—such as resource extraction in Nigeria versus manufacturing in Vietnam—create a divide in initiatives like BRICS, where India and China vie for influence. Infrastructure issues further limit coordinated efforts, with areas such as Sub-Saharan Africa having only 35% electricity access. The African Union operates with a budget of $200 million, while the EU has a budget of $200 billion.
To address these challenges, the Global South should align its economic goals and establish an intra-Global South economic framework, working towards reducing its reliance on the U.S. dollar through the BRICS Pay initiative. The New Development Bank should enhance South-South investment to improve infrastructure. By focusing on shared challenges such as climate change, trade imbalances and access to technology, countries in the Global South can work together more effectively. This collaboration can create a stronger, multipolar world that reduces Western dominance.
«Союзники. ОДКБ»: Расширенный формат БРИКС+ теперь представляет 45% человечества и 37% мирового ВВП (по ППС), включая энергетических гигантов (Саудовская Аравия, Иран) и технологические державы (Китай, Индия). Должен ли он эволюционировать в альтернативу МВФ (например, через введение единой валюты БРИКС), или свободная координация лучше отвечает интересам?
BRICS+ now represents 45% of humanity and 37% of global GDP (PPP), with energy titans (Saudi Arabia, Iran) and tech powers (China, India). Should it evolve into a IMF alternative (e.g., BRICS currency), or does loose coordination better serve?
Мохаммед Сакиб: Доминирование доллара США является значительной проблемой развития для стран Глобального Юга. Единая валюта могла бы бросить вызов гегемонии доллара, снизить зависимость от западных финансовых систем и усилить торговую автономию, как показали испытания BRICS Pay. Новый банк развития (НБР) также финансирует инфраструктурные проекты в национальных валютах, выделив $32 миллиарда с 2015 года. Хотя это относительно небольшая сумма, по крайней мере, достигнут некоторый прогресс в сокращении масштабов заимствований у МВФ. Однако введение формальной валюты все еще сталкивается с препятствиями; например, доминирование китайского юаня может не устраивать Индию, а геополитические трения, такие как соперничество между Ираном и Саудовской Аравией, осложняют достижение консенсуса.Экономические диспропорции (ВВП на душу населения в Индии — $2,731 против $13,136 в Китае) дополнительно затрудняют интеграцию. Таким образом, на данный момент и в обозримом будущем свободная координация через такие механизмы, как торговля в национальных валютах и расширение НБР, лучше соответствует разнообразным интересам БРИКС+. Она обеспечивает гибкость, позволяет избегать идеологических столкновений и задействует существующие платформы, такие как Договоренность о создании Пула условных валютных резервов (CRA, $100 миллиардов).Сосредоточившись на взаимных инвестициях стран Юга и использовании цифровых платежных систем, БРИКС+ может укрепить свою экономическую независимость. Такой подход помогает смягчить риски, связанные с чрезмерной централизацией контроля. Он также поддерживает стремление Глобального Юга к многополярному миру, сохраняя стратегическую независимость.
The dominance of the USD is a significant development issue among the countries of the Global South. A unified currency could challenge the dollar’s dominance, reduce reliance on Western financial systems, and enhance trade autonomy, as seen in BRICS Pay trials. The New Development Bank (NDB) also funds infrastructure projects in local currencies, disbursing $32 billion since 2015. Although this is a relatively small amount, at least some progress has been made in reducing the scope of IMF loans. However, a formal currency still faces hurdles; for example, China’s yuan dominance may not be welcomed by India, while geopolitical tensions, such as the Iran-Saudi rivalry, complicate consensus.
Economic disparities—India’s per capita GDP of $2,731 versus China’s $13,136—further strain the integration process. Thus, at the moment and for some time to come, loose coordination, through mechanisms such as local currency trade and NDB expansion, better suits the diverse interests of BRICS+. It allows flexibility, avoids ideological clashes, and leverages existing platforms, such as the Contingent Reserve Arrangement ($100 billion).
By focusing on investments between South countries and using digital payment systems, BRICS+ can strengthen its economic independence. This approach helps mitigate the risks associated with excessive central control. It also supports the Global South’s desire for a multipolar world while keeping strategic independence.
«Союзники. ОДКБ»: По мере перехода многополярности из теории в практику, дискуссии на высоком уровне сталкиваются с ключевым противоречием: означает ли она гармонизацию цивилизационных моделей или фрагментацию глобального управления на конкурирующие сферы влияния. Как вы определяете многополярность в структурных терминах? Помимо риторики, какие конкретные экономические и политические параметры однозначно укажут на наступление многополярного мира?
As multipolarity transitions from theory to practice, high-level discourse grapples with a core tension: Does it represent the harmonization of civilizational models or the fragmentation of global governance into competing spheres of influence. How do you define multipolarity in structural terms? Beyond rhetoric, what specific economic and political parameters would definitively signal the arrival of a multipolar world?
Мохаммед Сакиб: В структурном плане многополярность означает децентрализованную глобальную систему, в которой ни одна держава не монополизирует экономическое, политическое или культурное влияние. Она определяется распределением власти по регионам – Азия, Африка, Латинская Америка и другие, – опирающимися на институты, экономики и альянсы, которые заменят или дополнят западные структуры, такие как МВФ или НАТО.С экономической точки зрения, многополярность наступит, когда Глобальный Юг или объединения вроде БРИКС+ будут играть значительную роль в мировой торговле и финансах. Ключевыми параметрами станут: валюта или платежная система БРИКС (например, BRICS Pay), существенно снижающая зависимость от доллара; превышение объемов кредитования Новым банком развития (НБР) над МВФ; превосходство торговых коридоров Юг-Юг (таких как «Пояс и путь») над инициативами «Большой семерки» (G7). Однозначным сигналом будет проведение более 50% мировой торговли в недолларовых валютах наряду с тем, что региональные фондовые биржи будут торговать больше, чем Уолл-стрит.С политической точки зрения, многополярность требует наличия влиятельных незападных институтов. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Африканский союз (АС) должны превратиться в органы принятия решений с действенными механизмами, подобными ЕС. Необходимо глобальное управление без права вето, где резолюции Глобального Юга или БРИКС+ последовательно определяют исход голосований в ООН, или где региональные пакты безопасности, такие как РАТС ШОС, превосходят по охвату НАТО.Ключом к объединению стран служит сотрудничество, примером чему служит модель консенсуса АСЕАН. Однако трения между такими странами, как Китай и Индия или Иран и Саудовская Аравия, могут привести к фрагментации. Подлинная многополярность наступит, когда страны вне Запада будут обладать более чем 50% мировой экономической мощи и смогут объединяться политически.
Structurally, multipolarity means a decentralized global system where no single power monopolizes economic, political, or cultural influence. It is defined by distributed power across regions—Asia, Africa, Latin America, and beyond—anchored by institutions, economies, and alliances that will substitute for or complement Western frameworks like the IMF or NATO.
Economically, multipolarity would occur when the Global South or blocs like BRICS+ play a significant role in global trade and finance. Key parameters would include the BRICS currency or payment system (e.g., BRICS Pay), which significantly reduces dollar dependency; the New Development Bank lending more than the IMF; South-South trade corridors, such as the Belt and Road, surpassing G7-led initiatives. A definitive signal would be over 50% of global trade conducted in non-dollar currencies, alongside regional stock exchanges trading more than Wall Street.
Politically, multipolarity requires non-Western institutions. The Shanghai Cooperation Organization and the African Union must develop into decision-making bodies with enforceable mechanisms, like the EU. A veto-free global governance, where Global South or BRICS+ resolutions consistently shape UN outcomes, or regional security pacts like the SCO’s RATS overshadow NATO’s reach.
Cooperation is key to bringing countries together, as exemplified by ASEAN’s consensus model. However, tensions between countries like China and India or Iran and Saudi Arabia can lead to fragmentation. True multipolarity will happen when countries outside the West have more than 50% of the world’s economic power and can unite politically.